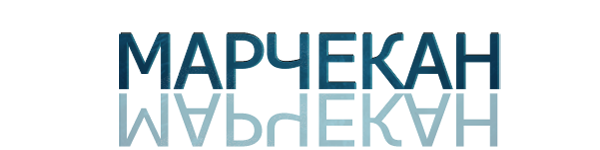- Марчекан - микрорайон Магадана, в котором я прожила 6 лет. Мои родители провели на Колыме 22 года. Они были заключенными, потом ссыльными и, наконец, реабилитированными. Я издала книги своего деда и родителей, несколько своих, произведения друзей родителей. Так или иначе, большая часть книг - о Колыме, поэтому я и открыла в Интернете свой сайт под названием «Марчекан» в память о самых счастливых годах детства.
В 1996 году мне посчастливилось приехать в Магадан на открытие памятника «Маска Скорби». Конечно, город очень изменился. После возвращения на «материк» я сделала фотовыставку для музея им. Сахарова «Открытие памятника «Маска Скорби» и «Бутыгычаг». Фотографии, сделанные на Колыме, пригодились для оформления книг. Вся изданная мною литература есть в магаданской областной библиотеке. Кроме Книжной палаты, книги также поступают в «Московский Мемориал», Библиотеку Конгресса в Вашингтоне, библиотеку Института социальной истории в Амстердаме, Гданьск, Прагу, Бремен.
Но вернемся в Марчекан. Там я ходила в детский сад, гуляла, сколько хотела и где хотела, по окрестному лесу. Заблудиться там было невозможно - всюду били ключи, а я четко знала, что все они впадают в Охотское море. Ключи журчали даже под деревянными тротуарами. И нигде больше нет такой вкусной воды, как в магаданских ключах.
Деревья, заросли стланика, бурундуки, морошка, шикша - это был мой мир.
Никто не ущемлял меня в моих прогулках. Единственное, за что мне попадало - за мокрые ноги, которые были чреваты соплями. В те годы обидеть ребенка в Магадане было немыслимо. Уже вовсю шла реабилитация, и из осужденных по 58-й статье в лагерях оставались только те, кто сидел за дело - шпионы (настоящие), полицаи, власовцы. Милиционеры приходили к нам в школу только один-единственный раз - объясняли Правила дорожного движения.
А Охотское море после отлива оставляло множество сокровищ - медуз, морских звезд, ракушек. Однажды зимой нас водили на берег моря смотреть убитого кита - огромную черную тушу…
В 1992 и 1996 годах, когда я была в Магадане, конечно, в первую очередь пошла к тому месту, где был мой дом, а потом - в Марчекан. Дома моего уже давно нет, Марчекан изменился, но остался дом, который строили еще японские военнопленные. Брожу я по Марчекану и в нынешний приезд в город, ставший для меня родным. Помню, как в 1996 году в Марчекане я увидела чудо чудное, диво дивное - воробья. В мое время нам дали в школе задание - в слове «в..р..бей» вставить буквы. Никто не смог с этим справиться. Мы хором тогда спросили учительницу: «А что это такое?».
…Обо всем этом и многом другом Татьяна Исаева успела рассказать, будучи у нас в редакции. А ее появление в приемной поначалу весьма удивило нашего главного редактора Антонину Лукину:
- Смотрю, на пороге появилась маленькая хрупкая женщина, со всех сторон обвешенная тяжеленной ношей. Оказалось, книги.
Впрочем, об этих изданиях, заметьте, выходящих в свет исключительно за счет Татьяны Ивановны, - отдельно. Минувшая неделя прошла для меня под знаком Татьяны Исаевой. Прочитать все книги, естественно, не успела, поэтому расскажу о некоторых из них и о людях, которыми эти книги дышат, опять-таки с помощью моей собеседницы.
«БЕССОННАЯ ПАМЯТЬ»
Автор этой книги - родной дед Татьяны Ивановны Александр Константинович Воронский. Родился 27 августа (6 сентября) 1884 года в с. Хорошавка Кирсановской губернии в семье священника. После окончания бурсы поступил в духовную семинарию. В 1904 году вступил в РСДРП(б). После бунта исключен из семинарии. Арестован в 1906-м и приговорен к году заключения. Сидел в Петропавловской крепости. В 1908-м вновь арестован и приговорен к двум годам ссылки в Яренск Волгоградской губернии. В 1911-м начал публиковать первые статьи в одесской «Ясной заре». В 1912-м был делегатом Пражской конференции, в 1918-м - главный редактор газеты «Рабочий край» в Иваново-Вознесенске. В 1921 году - редактор первого «толстого» журнала «Красная новь». В 1929-м арестован за принадлежность к оппозиции и сослан в Липецк. В 1937-м арестован. Расстрелян 13 августа 1937 года.
«Была революция, дни кары, погибели тех, чью волю исполнял палач в красной рубашке! Но по-прежнему вижу я общую перекладину, пять фигур в саванах, слышу густую дробь барабанов. Ничего не стерлось в памяти, ничто не потускнело. Кто сказал о забвении! Его нет. В мире бывают проишествия, случаи, события - они навсегда порочат жизнь, от них остается грязный, гнойный след, презренное клеймо, ничем не смываемое. Они передаются из поколения в поколение, из рода в род, из потомства в потомство. Тень от перекладины повешенных в апрельское утро будет лежать на земле, пока всходят луна и солнце».
«ВЫСТОЙКА НА МОРОЗЕ»
Автор книги - мама Т. И. Исаевой Галина Александровна Воронская. Ее судьба, как и жизнь ближайших родственников, трагична. Родилась 15 августа 1914 года в г. Кеми. Ее отец А. К. Воронский отбывал там ссылку за революционную работу. Галина Александровна поступила в Литературный институт, должна была быть в первом выпуске, но в феврале 1937 года арестовали отца. В марте пришли за ней, а затем забрали и ее мать. Галину Александровну приговорили к 5 годам лагерей, обвинение - КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность). Свой срок она отбывала на Колыме, в совхозе «Эльген». После освобождения вышла замуж за Ивана Степановича Исаева, с которым была знакома еще по Литературному институту. В 1949 году Г. А. Воронскую арестовали во второй раз и отправили в ссылку до особого распоряжения. В 1957-м она была реабилитирована, посмертно реабилитировали и ее родителей. В 1959 году вся семья уехала в Москву. Свои рассказы Г. А. Воронская начала писать еще на Колыме. В 1991 году ее не стало.
«...Шел послеобеденный лагерный развод. У лагерных ворот толпились одетые в серые ободранные бушлаты заключенные. Ворота, высокие, с претенциозной круглой аркой, когда-то были выкрашены зеленой краской, но краска вылиняла, облупилась. Над аркой болталось выцветшее красное полотнище с большими буквами «Через честный труд - к освобождению».
Начальник лагеря приказал вывести сидевших в карцере и поставить их у ворот, чтобы заключенные, уходящие на работу, их видели и устрашились. Кроме того, вохровцам и старосте, сидящим на вахте, было удобно наблюдать за ними через узкое окно. На окне был толстый налет снега, но кусочки его соскребали, дышали на него горячим мужским дыханием, и получилось что-то вроде «волчка» в камере. Желтое солнце стояло посредине зеленого неба над округлыми заснеженными сопками. Начальник лагеря вышел из канцелярии. Он был в черной меховой шапке-ушанке, в черном новом полушубке, туго стянутом новым скрипучим ремнем, похлопывая рукавицами с большими раструбами одной о другую, велел повернуться разводу налево. Прокашлялся, выпятил грудь и, повышая голос так, чтобы слышали стоявшие в конце развода, отчеканил:
- Слушайте меня, заключенные! Вас сюда привезли, чтобы честной работой вы искупили свои преступления. Однако некоторые считают, что им лишь бы срок отбыть, так нахально и говорят: «Мы приехали не вкалывать, а срок отбывать». Норму производственную не выполняют, режутся в карты, воруют, агитируют против советской власти. Одним словом, не желают исправляться. Но мы заставим. Я подобрал несколько мерзавцев, и пусть они постоят минут тридцать раздетые на колымском морозе. Очухаются. И так будет с каждым, кто нарушит мне лагерную дисциплину. Староста, выводи!».
«МЫ, КРЕЩЕННЫЕ В ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМ ГОДУ»
Вдова поэта Валентина Валентиновича Португалова передала в свое время маме Татьяны Ивановны архив поэта. На его основании издано несколько книг. Одна из них «Мы, крещенные в тридцать седьмом году». В. В. Португалов (1913 - 1963) учился в Литинституте, в 1937 году был арестован и очутился на Колыме. После реабилитации поэт работал в Магаданском областном доме народного творчества. Много лет собирал чукотский фольклор, переводил стихи чукотских поэтов. О себе, своем поколении он писал:
Да, морозы колымские кровь из нас выжали, -
Нас спасла, вероятно, привычка к труду, -
В общем, так или эдак, а все мы выжили,
Мы, крещенные в тридцать седьмом году.
«МЫ - ЛЕТОПИСЦЫ ПИМЕНЫ, И НАМ НЕ НАДО ИМЕНИ»
В этот сборник Т. И. Исаева включила стихи репрессированных поэтов Василия Князева (по некоторым данным, похороненного в п. Атка), Анны Барковой, Варлама Шаламова, Валентина Португалова, Игоря Поступальского, Алексея Юрова, Бориса Уральского, Всеволода Горшкова.
Я в воде не тону
И в огне не сгораю.
Три аршина в длину
И аршин в ширину -
Мера площади рая.
…В Магадане Татьяна Ивановна планирует провести весь июнь. Будет садиться в маршрутки, выходить на конечных остановках и бродить по туманным окраинам города, будоража свою память, и в первую очередь, конечно, по сердцу милому Марчекану. Только вот жаль, сетует моя собеседница, нельзя добраться теперь на общественном транспорте до Старой Веселой… А вернувшись в Москву, она вновь с присущей ей целеустремленностью будет издавать книги. «Да, я колымчанка, - улыбается хранительница памяти. - Но в моих жилах течет и украинская кровь, а хохлы, как известно, народ упертый, так что еще немало книг ожидает своего рождения»…
Ирина НЕФЕДОВА